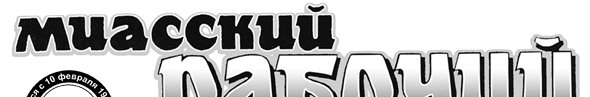 |
свежий номер поиск архив топ 20 редакция www.МИАСС.ru |
|||
| 28 |  |
|||
| Пятница, 13 февраля 2004 года | ||||
МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...
Гусляр Ме года три, не больше. Я играю под присмотром бабушки Капы у ворот ее дома по Набережной. Лето. Речка Миасс, тогда вполне чистая (и рыбу ловили, и воду на чай брали), полноводная, сомлела в полуденном зное. На улице — ни души, даже собаки валяются в тени и голоса не подают. Жара. Жа-ри-ща... Бабушка, уронив очки, дремлет на лавочке и не видит, что я норовлю выбежать на дорогу — посмотреть, не идет ли кто случайно. И правда — идет, и слышно Его уже издали, от моста. Вот уже и конец тишине: завидев и услышав Его, выбегают навстречу женщины, ребятишки и наперебой зазывают дорогого гостя к себе. Но Он идет к бабушкиным воротам. Бабушка же, проснувшись и шлепнув меня для порядка, чтоб не бегала без спросу на дорогу, здоровается с Ним и приглашает присесть. Он садится на лавочку, все молча окружают Его, и волшебство начинается. О кладет на колени свой чудо-инструмент, и тонкие пальцы начинают свой полет по струнам. Под их рассыпчатое звучание Музыкант ведет неторопливый рассказ-речитатив о море-океане, о заморских чудесах, о девицах-красавицах, о русских былинных богатырях. Звучание струн завораживает, а голос серебристым ручейком звенит-звенит неумолчно и чисто, пальцы то быстро-быстро пробегут туда-сюда по струнам, то, будто задумавшись, замрут на мгновение. И голос его- то взовьется ласточкой ввысь, то канет вниз, а то словно внезапно оборвется, и сладко ворохнется сердце от такого душевного полета… Так он играет долго. А потом поет на заказ про женское одиночество, про соперницу негодную да про злую войну-разлучницу... Слушают его молча, лишь иногда кто-нибудь протяжно вздохнет да слезу смахнет украдкой. Вот и пропел гусляр последнюю прощальную песню, поклонился народу и отправился по городу на следующее выступление. Патили ему кто чем мог: кто деньгами, кто куском хлеба или пирога, а кто и потчевал обедом. И надо было видеть лица слушателей после концерта: просветленные, словно бы омытые родниковой водой, светящиеся изнутри особой одухотворенной красотой, по-настоящему прекрасные. Вот уж поистине то были времена, когда искусство преображало людей, заставляло забывать невзгоды послевоенного лихолетья, просто помогало выжить. Говорили, что гусляр тот попал на Урал, эвакуировавшись в войну из самого Новгорода, да так и осел в Миассе. Семьи у него не было, но, когда он все-таки через пару лет уехал на свою родину, говорили, что у миасских женщин остались от него ребятишки — красивые, крепенькие, голосистые — все в отца. А вот гусли звончатые увез он с собой, и Миасс осиротел, лишившись навсегда своего заезжего Садко. Ме довелось побывать в Новгороде лет десять тому назад. Славный город — красивый, старинный, вольный. Красивы и сами новгородцы: красивы душой, статью, лицом, какой-то особой уверенностью, свободой в поступи, в движениях. Тогда-то и вспомнились мне наш миасский Садко из давнего моего детства, его чудо-гусли и великий талант делать людей счастливыми.
Кундравинский бог Мя мама в начале 50-х годов теперь уже прошедшего столетия работала экскурсоводом в нашем краеведческом музее. Тогда он находился по Октябрьской улице. Геолог по профессии, она знакомила посетителей со всевозможными минералами, камнями — самоцветами, образцами руд. Я любила приходить вместе с ней на работу. В который уже раз проходила по многочисленным залам, с любопытством рассматривая знакомые экспонаты. Вот горка из камней, вот знаменитая ваза из хлорита работы первого директора музея Эммануила Мали, вот коллекция старинного оружия. А вот и самый интересный зал с чучелами птиц и зверей. Здесь и косули, и зайцы, и громадный сохатый с лосенком. Но самым выдающимся экспонатом был, конечно, любимец всех посетителей — бурый медведь. Поднявшись во весь свой огромный рост, он держит в лапах дубину, пасть открыта в грозном реве: попадись ему обидчики, лишившие косолапого жизни, — разорвет на кусочки! Больно уж грозен был Михаил Потапович, и я, бывало, с опаской (а вдруг да оживет?), на цыпочках пробиралась мимо чучела хозяина уральской тайги. А когда сумерки сгущались, темнело и в залах музея. И тогда я особенно старалась не проходить по звериному царству: в темноте глаза у чучел начинали поблескивать, как у живых, и все они в сумерках казались совсем другими, чем в свете дня, — таинственно-загадочными, жутковатыми в этом неверном вечернем свете. Н особенно боялась я проходить по дальнему залу музея. Даже днем, бывало, сердце мое начинало колотиться сильнее, чем обычно, когда мы с мамой (я всегда просила ее сопровождать меня) приближались к этому залу. А уж вечером… Вечером и говорить нечего, как манил и одновременно приводил в трепет все мое существо тот самый зал. А обитало там самое таинственное и жуткое существо — деревянная скульптура Христа. Этот бог выглядел совсем не так, как Лик вседержителя на бабушкиной иконе в нашей спальне. Это был одновременно и человек, и идол, и божество. Он сидел в задумчивости, подперевшись рукой, и глаза его выражали скорбь и печаль по человечеству, спасти которое он был призван и по вине и за грехи которого мученически погиб. Вличиной этот бог был в три человеческих роста. Из одежды на нем имелась лишь набедренная повязка, и раскрашен он был в неистовых сине-красных тонах. Скульптуру эту обнаружили при раскопках близ Кундравов — бывшей казачьей станицы, ее так и назвали — Кундравинский бог. Нпрасно моя мама, подводя меня к богу, пыталась развеять детские страхи. Я слушала, а сама все крепче и крепче сжимала ее руку, потом молча тянула прочь от этого наводящего на меня страх изваяния. До сих пор помню то состояние страха и ужаса, которое, кто знает почему, наводил на меня образ Спасителя, в общем-то доброго и жестоко за нас пострадавшего. Или его корявая сине-красная деревянность, или громадный рост, или что-то дикое, темное, мистическое, из глубины веков, жившее в этом монстре, было тому виной, но что-то неуютное, необъяснимое отталкивало меня и вселяло почти животный ужас. Эа первая детская встреча с Иисусом Христом запомнилась потом на всю жизнь. Когда мы с моим шестилетним сыном смотрели японский мультик «Принцесса подводного царства», он вначале держал меня за руку, потом, когда на экране стали проплывать обитатели морских глубин — красивые и одновременно страшные, такие правдоподобные, — я вдруг почувствовала, как сын все настойчивее тянет меня за руку, а когда он увидел зубастую разверзнутую пасть морского чудовища, почти закричал: «Мама, пойдем!» Я слышала, как часто бьется его сердце. Пришлось нам срочно ретироваться из темного зала. И тогда я вспомнила свои детские страхи, Кундравинского бога, улыбнулась, взяла сына за руку, и мы пошли с ним по зеленой, залитой солнцем весенней улице — навстречу радости и свету жизни.
Таня-барыня Был у нас дома клеенчатый бумажник «под крокодила». Папа привез его из Германии после войны. Рисунок был наведен старательно, со всей немецкой тщательностью, и выглядел бумажник по тем временам очень солидно, внушая доверие к его обладателю. Я, трехлетняя, любила играть с ним, застегивать все кнопки, а потом, расстегнув, обследовать его недра, куда засовывают разные фантики да бумажки. Так вот и играла я с этим «крокодилом», когда мне давали взрослые, предусмотрительно вынув из бумажника деньги, для хранения которых и держали его в хозяйстве. Пмню один прекрасный день, когда мои домашние — мама, папа, бабушка — переполошились не на шутку. У всех были озабоченные, встревоженные лица, они в сотый раз открывали шкафы, тумбочки, что-то перерывали, видимо, искали какую-то потерю. Дядя Саша и тетя Ника им усердно помогали в поисках. И тут бабушка Оля меня вдруг спрашивает: «Леля, ты вчера бумажником играла? Куда ты его положила?» Я отвечаю, что да, играла, потом отдала бумажник ей, бабушке, лично в руки. Она недоверчиво качает головой и на всякий случай проверяет, нет ли «крокодила» в моей кроватке и даже в кроватках моих любимых кукол — Аси и Нэлли. Я понимаю, что потерялся не пустой бумажник, а с деньгами, и помогаю бабушке искать его всюду, где только можно. Прошел день, «крокодил» не нашелся. Вечером на семейном совете бабушка объявила всем, что придется завтра идти в последнюю инстанцию, то есть к Тане-барыне. Нзавтра, встав пораньше, бабушка надела самое лучшее свое платье, темно-синее, из плотного ажурного крепа, и отправилась к той самой знаменитой миасской гадалке — Тане-барыне. Барыней ее называли за то, что очень уж любила она нарядные, модные платья, особенно уважала панбархат, шелка и габардин, не признавая пролетарские ситчик и бумазейку. Когда часа через два бабушка вернулась домой, сказала следующее: велела искать дома, между досок, и развела при этом руками. Мы переглянулись и стали лихорадочно соображать, между каких же это досок полеживает наша дорогая пропажа. Бабушка бродила по дому, прикидывая так и эдак местонахождение бумажника. Прошло довольно много времени. Вдруг, решительно подойдя к комоду, папа вынул верхний ящик, и там, в укромном уголке, между ящиками, мы увидели «крокодиловый» уголок. Все, где стояли, там и сели. Вот так Таня-барыня! Помогла ведь ее подсказка! И не нам одним, и не однажды. Пошло года три. И вот как-то раз после вечера танцев в клубе МНЗ загадочно исчезает папин «кормилец» — американский саксофон-альт. Видимо, кто-то из молодежи решил подшутить над отцом, а надо сказать, в городе все любили и уважали его за исполнительский талант. Так вот, бабушка снова собирается и идет к Тане-барыне за советом. Та отвечает: «Не горюйте, вашу пропажу вам вернут». Через неделю саксофон в футляре папа обнаружил у крыльца, открыв дверь на звонок. Итории эти не придуманы. Такая вот ясновидящая помогала миасским жителям находить потерянные вещи. Когда она, нарядная, красивая, степенно шла по своей улице (а жила она на «болоте» по улице Феди Горелова, недалеко от базара), многие глядели вслед: кто с обожанием, а кто и со злобой да с завистью. Гадала она на герани. Невзрачный, с малочисленными листочками цветок Таня ставила перед собой, долго вглядывалась в него, бормоча себе под нос: «Так-так… хорошо… понимаю…» Затем отводила взгляд от цветка, на мгновение замолкала и выдавала клиенту информацию-рекомендацию. И не было в ее практике ни одного случая, когда бы нагаданное не исполнилось. Жила эта женщина одиноко. Деньги ей благодарные за помощь люди, конечно же, кто сколько мог, приносили. И нашлись ведь лихие завистники, убили Таню-барыню, деньги все забрали. Но в доме ее долгое время жить никто не мог. Каждую ночь являлась Таня и бродила по комнатам, нарушая сон жильцов и наводя на них ужас скрипом половиц. А герань вмиг поникла, как только не стало Тани. Так и погибли они одновременно — герань и Таня, как одно целое. Но в благодарной памяти людской долго еще жила миасская знаменитость — гадалка-красавица Таня-барыня. От редакции. Эти светлые детские воспоминания Ольги Ивановны Балановской навеяны юбилейным для города годом, в том числе и многими публикациями в нашей газете. Ольга Ивановна — наш давний автор — не успела принять участие в конкурсе, который мы объявляли в прошлом году и итоги которого подвели к юбилею города. Но мы благодарны ей за присланные рассказы. Надеемся, они порадуют и наших читателей. Автор посвятила их двум замечательным старогородским бабушкам: «Гусляр» — Капитолине Ивановне Панфиловой и «Таня-барыня» — Ольге Львовне Подрядовой. |
назад |
 Четко помню себя с 2,5-3 лет. И воспоминания эти о старогородском моем детстве сейчас, через 50 лет, особенно ярки и дороги сердцу, даже запахи остались в памяти. А детская память — цепкая, надежно хранит в себе образы прошлого. Вот некоторые из них, особенно поразившие мое воображение своей необычностью, какой-то тайной и даже мистикой. Может быть, эти легендарные миасские личности запомнились не только мне, старожилы наверняка хранят воспоминания о людях, живших в городе в послевоенное время и оставивших яркий след в его истории.
Четко помню себя с 2,5-3 лет. И воспоминания эти о старогородском моем детстве сейчас, через 50 лет, особенно ярки и дороги сердцу, даже запахи остались в памяти. А детская память — цепкая, надежно хранит в себе образы прошлого. Вот некоторые из них, особенно поразившие мое воображение своей необычностью, какой-то тайной и даже мистикой. Может быть, эти легендарные миасские личности запомнились не только мне, старожилы наверняка хранят воспоминания о людях, живших в городе в послевоенное время и оставивших яркий след в его истории.