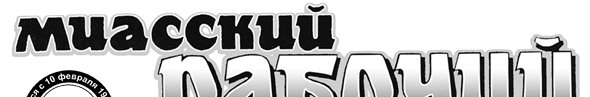 |
свежий номер поиск архив топ 20 редакция www.МИАСС.ru |
|||
| 25 |  |
|||
| Вторник, 10 февраля 2004 года | ||||
НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ По старой пропагандистской привычке полученные газеты стараюсь просмотреть в тот же день. Как случилось, что номер «МР» за 27 сентября прошлого года со статьей В. Мандрыгина «Городской уезд в 1920 году» развернула только в конце ноября, могу только гадать. Статья вызвала у меня резкий протест, но обстоятельства помешали тогда высказать свои возражения. И все-таки, хотя бы с опозданием, не могу не ответить: слишком много, на мой взгляд, отступлений от правды там допущено. Эиграфом В. Мандрыгин взял слова историка Ключевского: «Изучая предков, узнаем самих себя». Очень верно: мы будем честны и справедливы по отношению к предкам, если будем соблюдать главный принцип — рассматривать конкретные события в конкретных обстоятельствах, если не будем нарушать причинно-следственные связи при рассмотрении исторических событий. В названной статье нарушены все связи. Факты и события поданы в полном отрыве от всего и вся. Я как и В. Мандрыгин, не могла быть очевидцем событий 1920-х годов, но волей судьбы мне пришлось соприкоснуться с ними очень тесно. В 1964-67 годах, будучи сотрудником организационно-методического отдела областного управления охраны общественного порядка (так тогда называлось УВД), по заданию руководства я занималась воссозданием истории милиции Челябинской области. Пришлось перечитать десятки тысяч страниц архивных документов и литературных источников, выслушать воспоминания многих тогда еще живых участников и очевидцев событий 1917-го и более поздних годов. К сожалению, в связи с переездом в Миасс работу завершить не удалось. Однако то, что происходило в 1918-23 годах, я успела отразить в публикациях, и они сохранились. Иак, к концу 1919 года Урал и Сибирь были уже освобождены от колчаковцев. Но война продолжалась (на Дону и Кубани — против Деникина, в Крыму — против Врангеля, на западе — против белополяков), и она держала Советскую республику в неимоверном напряжении. Но, может быть, более опасные враги были внутри страны: холод, голод, разруха и тиф. Итервенты и колчаковцы нанесли хозяйству Урала страшный ущерб. При отступлении разграбили и вывезли 70 процентов заводов, угнали в Сибирь сотни паровозов и тысячи вагонов, а то, что не смогли захватить, безжалостно уничтожили. Особенно пострадала горно-металлургическая промышленность — основная отрасль Урала. Из Златоуста, Бакала, Катав-Ивановска, с Челябинских копей, других мест в Москву одно за другим шли срочные сообщения о том, что даже при наличии некоторого количества сырья производство наладить невозможно: рабочие жестоко голодают, в поисках заработка разбредаются, рабочих рук остро не хватает. «В стране, которая разорена, первая задача — спасти трудящегося, — говорил тогда В. И. Ленин. — Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Если он выживет, мы все спасем и восстановим». ИСоветское правительство предпринимало все возможные меры, чтобы поправить положение. К числу этих мер относятся преобразование в январе 1920 года 3-й армии, которая была дислоцирована на Урале, в Первую трудовую армию и введение всеобщей трудовой повинности. И то, что теперь В. Мандрыгин называет явлением, усугубляющим положение в губернии, на самом деле было необходимым решением. Првая трудовая армия сыграла огромную роль в восстановлении хозяйства Урала. Только с января до середины 1920 года ее бойцы добыли свыше полумиллиона пудов угля, отремонтировали 240 паровозов, 435 вагонов, расчистили свыше тысячи километров путей, восстановили 18 мостов, заготовили много дров и древесного угля. Внужденной и необходимой мерой была и продразверстка. Введенная еще указом царя во время первой мировой войны, она тяжким бременем лежала на плечах крестьянства все эти годы. Советское правительство отлично понимало это, но отказаться от нее в условиях полной хозяйственной разрухи было просто невозможно. В. И. Ленин в течение 1919-21 годов неоднократно обращался к уральцам за помощью, в частности, в 1920 году, когда в других местах был недород. Но одновременно он предупреждал продорганы: «…будьте осмотрительны и осторожны». В течение 1920 года Ленин неоднократно обращался к ним: «…прошу по возможности облегчить продразверстку… Я одобряю уменьшенную разверстку и обязательную выдачу бедноте в первую голову части собранного хлеба». (Если интересно, загляните в 51-й том ПСС Ленина). Иое отношение и у Ленина, и у продорганов было, конечно, к той части (богатой, кулацкой) крестьян, которые предпочитали гноить хлеб и продовольствие, закапывать в землю, но не отдавать голодающему народу. Именно к ним и относятся указания, которые приводит В. Мандрыгин: «…необходимо действовать с полной решительностью, применяя конфискацию имущества и личные репрессии в форме лишения свободы». Именно у таких хозяев приходилось вскрывать полы и перекапывать огороды. И хотя В. Мандрыгин не может не знать все эти детали, он, вопреки истине, представляет читателям всю работу продорганов как грабежи, разбой и насилие. Сльскохозяйственные районы Челябинской губернии были в основном казацкими. Это и усугубляло положение. Казачество, начиная с XVIII века, было привилегированным военным сословием, которое всегда противопоставляли «простому мужику». В Челябинской губернии лучшие земли принадлежали казакам. Советская власть, отменив сословные различия, лишила привилегий и казачество. Во время крайней опасности, когда под вопросом было само существование Советской республики, безусловно, ни от трудовой повинности, ни от продразверстки казачество не было освобождено. Имущественное расслоение среди казачества всегда было большим. Поэтому малоимущая часть казаков, как правило, воевала на стороне красных, а зажиточная — на стороне белых (хотя были отклонения и в ту, и в другую сторону). Встаницах, пригретые богатыми, осели колчаковцы и дутовцы. Они и возглавили банды «повстанцев» (а не отряды самообороны!), объединив вокруг себя и недовольных продразверсткой, и дезертиров, и уголовников. Да, главари всячески вовлекали в свои отряды и уголовников, и дезертиров. Им прежде всего поручали самые кровавые дела, которые творили банды: они вырезали целые семьи сельских активистов и сочувствующих, распинали продотрядовцев; были случаи, когда продотрядовцам, еще живым, вспарывали животы и набивали их зерном. Нселение станиц поддерживало бандитов. Кто-то по убеждению, а большая часть из страха: с «отступниками» расправлялись так же жестоко, как и с активистами. Политические лозунги, которыми руководствовались «повстанцы», были абсолютно лживы и демагогичны. Они провозглашали: «Долой коммунистов! Да здравствует Учредительное собрание! Долой войну!» Урядник — учитель Луконин — и подхорунжий Выдрин были достаточно грамотными и осведомленными людьми. Они отлично понимали: для того, чтобы скорее покончить с войной, нужен хлеб, транспорт, топливо… А в это время ивановские ткачи, рабочие Люберецкого завода сельхозмашин, челябинские угольщики, златоустовские металлурги не могли производительно работать: голодали. Отлично все это понимая, бандиты жгли леса (вокруг Миасса они полыхали все лето 1920 года), громили продотряды, разрушали мосты и железнодорожные пути, всячески препятствовали работе Советских органов. Содки того времени скорее похожи на донесения с фронта. Ожесточение было большим с обеих сторон. Сытым, хорошо одетым и обутым, хорошо вооруженным (и не кольями и пиками, как представляет В. Мандрыгин), быстро передвигающимся на сытых лошадях бандитам противостояли полуголодные, а порой и просто голодные, плохо одетые милиционеры, чоновцы, бойцы продотрядов. Сколько погибло в то время советских работников и бойцов продотрядов, к сожалению, неизвестно. И, конечно, не 45, и даже не 145. 28 сентября 1920 года в Миассе при огромном стечении горожан хоронили начальника милиции В. Н. Соколова, начальника района Уйской милиции А. А. Воронина и юного продотрядовца Федю Чечеткина. Их растерзанные тела накануне привезли из станицы Уйской, где вместе с ними от рук внезапно напавших на станицу, озверевших луконинцев погибли еще 17 их товарищей. Луконинцы мстили за то, что продотряд изъял у местного кулака полторы тысячи пудов пшеницы, скрытых от продразверстки. Это был лишь один эпизод из череды кровавых дел бандитов. Кконцу 1920 года с «повстанческими» бандами было покончено. Большую роль в этом сыграли не только усилия милиции и чоновцев, но и большая политическая и разъяснительная работа среди населения, которое постепенно стало понимать истинные цели Луконина и Выдрина. Ипоследнее, о реабилитации. В. Мандрыгин считает, что потомки тех «повстанцев» должны гордиться своими предками. А чем гордиться? Какими подвигами? Но и стыдиться им тоже нечего, потому что в большинстве своем они достойно работали, поднимая экономику страны в годы первых пятилеток, геройски, как и положено казакам, воевали на фронтах Великой Отечественной, защищая свою Советскую страну от врага, а потом не менее достойно трудились для ее процветания. Им и так есть чем гордиться: наградами, высокими званиями, своим добрым именем. И втягивание их в какие-то игры вокруг реабилитации — не что иное, как политиканство. Не пора ли уже и остановиться?
Т. ПОТАПОВА. Машгородок.
|
назад |