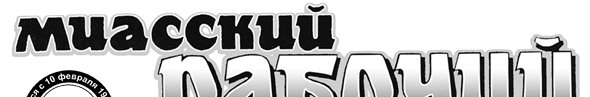 |
свежий номер поиск архив топ 20 редакция www.МИАСС.ru |
|||
| 199 |  |
|||
| Четверг, 23 октября 2008 года | ||||
Козловский хутор — Конечно, знаю, — ответ был на удивление скор. И доли секунды не потребовалось ему на размышление. Обычно вопрос о самом любимом месте, приглянувшемся душе, заставляет задуматься. Для Валентина Ивановича Попова он был решен, похоже, раз и навсегда: «Козловский хутор! Сездить бы…» И вот стоим мы на краю поля. Рядом, за горкой, поселок Атлян. А перед нами чаша… горная чаша вкруговую сомкнутых хребтов. — Атлянское плоскогорье или, лучше сказать, Козловское, по Козловским горам, — объясняет Попов. — Оно на 200 метров выше реки Атлян. Вот там, внизу, сад «Звездный». От него вправо и был когда-то хутор. Зросли крапивы, вечной спутницы человека, обозначили фундаменты прежних жилищ хуторка. Да старая лиственница со скобами и крюками, затянутыми древесиной. И тишина… Лишь колокольчиками позванивает невдалеке пасущийся табун. — Валентин Иваныч, а как попал сюда, в такую глушь? — О, это долгая история. Предки мои, Поповы, — одни из первых поселенцев села Черного. Тот край, где они проживали, так и звался: «поповским». Справно жили: скотина, большой дом. Раскулачили отца зимой 1930 года. Меня в то время еще не было. Старшая сестра вспоминает: их, шестерых ребятишек, разбудили ночью, кинув на печь старые валенки. Связали всех веревкой, даже бабушку. Посадили в сани и повезли лесами на реку Большой Кыл к Зюраткулю. То место — высокогорье, там и летом порой снег лежит. Не одних нас, Поповых, отобрав все, увезли в неизвестность. Восемнадцать дворов разорили тогда. Н Кылу поселили в бараках по16 семей в одном. Посреди барака была печь с двумя котлами — для кипятка и для супа. Похлебку выдавали по половнику «на рот». От такого питания люди умирали десятками. А надо было еще и работать! «Спецы» рубили в тайге лес, пилили, складывали в огромные углежогные печи, потом выгружали готовый древесный уголь. Заводы работали в ту пору на том топливе. Люди были очень истощены, тогда в ссылке умерли два моих брата — одному было четыре, другому год. Сколько в тех лагерях, разбросанных по нашим горам, погибло людей, Бог знает! Вот тогда у отца и сложилась эта грустная песня о житье-бытье спецпереселенцев: Вдиких Уральских горах, Ге пташки одни лишь поют, Ввершинах гор Приуралья Клацкие семьи живут. Пивезли их в суровую зиму, Н жалея и малых детей, Рзместили в лесные бараки, Тчно в бочку набили сельдей. Клаки ведь такие же люди, Ои жили все честным трудом. А за то, что работали сами, Ообрали пожитки и дом. Пиезжай-ка, товарищ Калинин, Псмотри на барак наш лесной. Внем живем мы не лучше скотины, Идетишки все плачут гурьбой. Змолчал Валентин Иваныч, молчим и мы, каждый в душе вспоминая свое. Порыв ветра, откуда-то пронесшийся среди гор, мягко пригладил седины. — И сколько лет прожили «горцами»? — Через два года перевели семью в Карабаш. Отец работал в шахте «Первомайская» проходчиком, но недолго — заболел силикозом, было ему 37 лет. Вскоре умерла от недоедания бабушка. В день на одного человека давали нам 250 граммов хлеба, пленным же немцам — 400 граммов! Похоронили бабушку на Золотой горе. От газа медеплавильного завода уже тогда никакой растительности там не было. Любой дождик размывал грунт, вымывал гробы, и кости похороненных людей валялись прямо на земле. Ппа умер как раз под октябрьский праздник 44 года. На другое утро приходит военный и подает справку о восстановлении Попова в гражданских правах и воинском звании. Мама заплакала, показала военному на гроб и сказала: «Вот он и восстановился». Похоронили его все на той же Золотой горе. Позднее могилы «врагов народа» сровняли бульдозером. Сейчас на камне там только и высечено: «Спаси и сохрани». — Сколько лет тебе было, Валентин Иваныч, осиротевшему? — Шесть. Через год пошел в школу, да учение на ум не шло — одни мысли о еде. Так и стал второгодником. А выжили мы за счет могучей выносливости мамы. Она бралась за любую работу — после схода льда на Богородском пруду вместе с другими женщинами ловила рыбу, шила одежду, меняла ее у старателей на муку. В памяти моей остались много-много нищих детей и шахтеров, идущих на смену по басистому гудку завода. Бегали паровозики с вагонами руды; дым из труб медеплавильного в плохую погоду стелился по земле — тяжело было дышать. Вдетские годы я не знал, что где-то рядом есть зеленые леса и поля — кругом голые камни, чахлые кустики. Примерно лет в 10 стал ходить с ребятами на рыбалку на Аргази, на Киалим. Но еще долго постоянно чувствовал голод, даже ночью. А в одиннадцать лет я впервые попробовал конфеты, яблоки, белый хлеб. — И где это было? — Да вот тут, на Козловском хуторе. Сестра мамина — баба Стеша — зазвала нас сюда. Здесь был старый кордон, он освобождался. В его балаганчик и переехали. Корову пешком привели. Два дня шли из Карабаша. Перебрались — и вздохнули: картошка растет, морковка растет, ягненка нам дали, овечек, кур развели. Все — начали жить. Красота! За хлебом ходили в Атлян, по булке стали отпускать на двоих. В Атляне и учился в школе. Оивился наш спутник, заблестели глаза: он слышит голоса близких, видит юные годы… — Вот, вот он, балаганчик-то мой! Вот еще проволока моя валяется… — А балаганчик… это что такое? — В земле яма вырыта, по бокам из камня фундамент и бревна в три наката. Посредине печь, сверху крыша. На Козловском 12 семей жили и в основном в балаганах. Окошко откроешь — кругом трава! Самая милая жизнь — это когда в траве живешь. А как сейчас из коттеджей сверху смотрят на траву, ничего не видят. Ничего не понятно. А тут все видно. Снизу-то видней, чем сверху! Вт здесь мы с мамой и жили. В конце двора у нас сарай стоял, крыша у него высокая была. Зимой ее обливал водой и катался с самого верха. — Как обливал? — С пацанами друг другу подавали ведра с водой. Обольем доски и, как по ледяной горке, в снежный надув — швырк! Летчиком хотел стать, тренировался. Чкаловым меня звали. — А воду где брали? — Здесь же кругом родники — пять ключей в долинке бьют! На речушке запруда была, даже рыба водилась. Вон она, плотинка, до сих пор стоит. У хутора история давняя. Появился он самое малое в XIX веке. Баба Стеша с дядей прожили на хуторе 60 лет. Здесь их и раскулачили, сослали в Уфу. А потом дядя сбежал обратно сюда, долго прятался в сене. Хуторские — они в основном золото мыли. По ручью в кустах и сейчас все в дудках, еще до войны вырыты были. Сверху бревна, а внизу глубина в 30-40 метров… А вот тут изба Нургалея-татарина, тут Брюхова баба Таля жила. Через речку на горке — дядя Федя-Комсомол. Прозвище ему такое дали. С женой они вроде баптистами были. А кур у них водилось!.. Вечером, когда рассядутся куры на насесте, Гайнатка, мой ровесник, привяжет за седало веревку и длинную-длинную жердь. Смотрим, дядя Федя с тетей Маришей Богу начали молиться: что-то читают, поют — в окошко-то видно. «Гайнатка, давай!» …По всем горам куриный ор! Горы чашей, куда ни глянешь — стеной поднимаются. Такое эхо! Д, все мы дети своего времени. Хоть и волосы поседели, а озорство все еще в глазах у Валентина Ивановича. — Часто проказили? Наверное, сорванцом рос? — Ой, что было! Из рогатки шибко любил пострелять. Да только ли мы? Рядом с хутором дорога из Миасса проходила. После войны машины стали ездить. Конечно, пыль от них. Дядя Ваня Брюхов и говорит: «Че они ходят? Че они ходят? Проволоку, че ли, натянули бы?» — «Ну долго, что ли, нам — за лиственницу да за столб, да на высоте кабины» … — Ничего себе! Вот за эту лиственницу? — За нее, родимую… — и тихо, ласково коснулся рукой шершавой коры. — Хоть бы что рассказала — всех ведь помнит. Сейчас мне семьдесят, а она вроде и тогда, в 12 лет, такая же была. Вт так всегда — все в нем соединено: ласковый тенорок с волевым напором, озорством, решительность с мягкостью характера. Любимец, видно, матушкин был. Как же — последыш — берегла и лелеяла по мере сил. Но и сын вырос, не скрывал любви и заботы к матери. — Мама рано стала инвалидом, пятидесяти не было. Я думаю: что на ее шее буду сидеть? Шестнадцатый год уж — взрослый. Фильм тут еще посмотрел «Пятнадцатилетний капитан»: «Вон в пятнадцать корабли уже водили, а я…» Поступил в строительное училище на моториста: кулацкому сыну другой дороги не было. Закончил его. — И что, больше не возвращался на хутор? — Нет, вернулся. Уже с женой после окончания Троицкого сельскохозяйственного техникума. Направили нас в Медведевку, за Златоуст. В пути шофер автобуса расспросил: куда да зачем? «О, в Медведевку! Так там одни камни, овес и тот не растет». А я уже поработал агрономом в Черновском совхозе, говорю Тамаре: «Вылазь». В Сыростане вылезли, разворачиваемся и обратно. Работать стал в Атлянском отделении, но жили здесь, на хуторе. Здесь и сын Миша родился. — А до какого времени просуществовал хутор? — Примерно до 1967 года. Тогда стал развиваться туризм, начались походы. Мы уже перебрались в Смородинку и маму с собой забрали, хотя сено по-прежнему заготавливали тут. Дома пустые стояли, брошенные — кто умер, кто уехал. В них туристы стали ночевать. Зимой и сожгли наш балаганчик. Так весь хуторок и пропал. Состарился. Так все рухнуло, рассыпалось… А если бы поддержать — жить здесь можно было бы безбедно. Богатейшая земля, какие пастбища тянулись вплоть до самой Госконюшни! А воздух, а вода… санаторное место! Сколько лет прошло, крапива вон стоит и ждет еще кого-то. Вт и съездили на родное пепелище… Как много в России забытых деревень, а значит, не осознано нами прошлое.
Страницу подготовили Ольга и Виктор СУРОДИНЫ
|
назад |