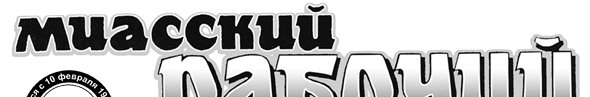 |
свежий номер поиск архив топ 20 редакция www.МИАСС.ru |
|||
| 164 |  |
|||
| Четверг, 4 сентября 2008 года | ||||
Река жизни
Дтство… Родительский дом стоял на берегу излучины. Здесь в давние времена речному потоку мешала каменная гряда. Но то, что казалось сильнее, долгим упорным движением воды было снесено, разрушено. И теперь горным перекатом выглядывают те каменные спины. Уром тонкий лучик пробивался сквозь щели ставня. Искрились, танцевали пылинки в солнечных потоках. Луч касался ресниц, прогонял сон, будил и звал куда-то. Там, за окном, шумела река, щебетали птицы, звучали голоса… Жил мир. Ноги сами несли к теплым мокрым камням. Руки тянулись к водяным струям. Чудилось, вся природа радуется твоему пробуждению! Дм у реки… и дорога всегда начиналась от речного порога, всегда рядом была река. Под слоем ли льда, бурным ли потоком в половодье. Иногда в разливы вода подступала к самому дому, проникая в подполье, и надо было спасать оставшиеся с зимы припасы. Путь же в детский сад в ту пору проходил через огороды. Во дворе улицей повыше соседи на время открывали ворота. Н бежала вода, прибавляя года. И с каждым летом мир становился все шире, все дальше познавалась река. От Шадринского моста до Горбатого мостика у Пионерского сада. И туда, вверх по течению, вдоль забора напилочного завода. Брызги и грохот воды у плотины Миасского пруда… тихий плеск весла и белые лилии Поликарповского. С временем удочка и велосипед сменились книгой. Теплые летние вечера звали к созерцанию и раздумью. Пока еще робкому, как маленький ручеек. Но нет-нет, да и мелькала мысль: откуда ты, река, куда бежишь? Млодость, будто бурной волной, захлестнула, накрыла и повлекла в водовороте дел. А река бежала, год от года становясь все мельче и грязней. Тиной и водорослями зарастало ее каменистое русло. Задыхалась у берегов, где когда-то водились налимы и щуки, больная рыбешка. И в жару в ее водах не плескалась уже детвора. 90-е годы даровали реке небольшое послабление. От напилочного завода был построен отводной коллектор. К той поре берега уже заросли ивняком. Кустарник стал пристанищем для соловьев и другой мелкой птахи. Относительно чистая вода… и снова над рекою крики чаек. Камышовые острова — и даже дикие утки. Жизнь продолжалась, утверждая в желании найти истоки Миасса. Вгородском краеведческом музее хранятся работы в прошлом его научного сотрудника П. Шалагинова. В 60-х годах XX века Петр Михайлович совместно с группой школьников исследовал верховья реки Миасс. Результатом экспедиции стал вывод: начало реки — в Азии, на восточном склоне Большого Нуралинского хребта. Ее истоки — среди двух распадков горы на высоте 700 метров над уровнем моря. Но в той же работе Шалагинов отмечал, что «в краеведческом музее города есть карта 1892 года. На ней еще в ту давнюю пору четко обозначены миасские истоки». Так через десятилетия как бы заново поколения живущих здесь людей открывают землю предков. Иванам не помнящим родства, увы, это свойственно. Труд краеведа стал путеводной нитью и для нашего открытия истоков Миасса. Т осень выдалась на редкость сухой. Затянулось бабье лето. Сверкала, играла золотом желтизна берез. Когда-то грязные дороги стали проезжими. А интерес к родному краю привел нас к необычной гряде гор — к хребту Нурали. Высохли ручьи, о которых писал Шалагинов. Лишь их каменистые русла напоминали о былом журчании. Но все же… вода у истоков была. Рстекалась, перекатывалась по камушкам в самом начале горного ущелья узенькая речушка. Даже на плесе в метр шириной. Искрилась, напевала свою песню. Зачерпнула ладонью воду — до чего же вкусной в жаркий сентябрьский полдень показалась она! Прохлада речушки притягивала, влекла за собой. И почему-то не ощущалось хрупкости, малости этого лесного ручья. Может, горы тому причиной? Кутые склоны, то заросшие в низинах сосной, лиственницей, березой, то совершенно голые, скалистые, с красным лишайником обрывистого берега некогда бурной реки, внушали почтение. Лощины гор были так часты, что издали казались морщинами древнего старца. Большой Нуралинский хребет, как именуют его старые карты, был действительно большим! Прошли ущельем почти два километра. Дорога сузилась и превратилась в тропу. Не столь нахожена она, но местами у крутых обрывов видно, что в прошлом была торной. Внизу, в зарослях отцветшей таволги, среди высоких берез, нет-нет и мелькнет небольшое водяное зеркальце. И журчит, журчит со склона в первозданной тишине ручеек... Бежит, не пересыхает Миасс даже в сухую осень. Т ущелье местные жители называют Пугачевским прогалом. Здесь два века назад якобы скрывался после поражения и набирался сил вместе со своим войском Емельян Пугачев. До сих пор в тех горах, случается, вымывают дожди наконечники стрел. А по этому распадку по тропе, которая в далекие времена, как предполагают, была одной из торговых дорог, уходил бунтарь за Уреньгу… на Сатку. Превал. Распахнулось сузившееся горное ущелье. Резко вниз обрывается Нуралинский хребет. Впереди гряда Сиритура, а за ним Урал. И даже здесь, на западном склоне, почти на высшей точке перевала, ручей все же есть! Ускальных выходов луговая долинка. В Нуралях все так… рядом, бок о бок. Выжженные камни и тут же альпийское разнотравье. А из-под уходящей за гору луговины крошечный водопадик. Почти по каплям собираются струи миасские, образуя подобие родничка. Синее бездонное небо отражается в нем. И осколком солнца упавший с березы желтый лист. Сэтих первоначальных капель километр за километром начинается большая река. Миасский энциклопедический словарь характеризует ее как самый значительный водоток Южного Зауралья. А бежать нашей реке до плесов Исети, питая землю, села, деревни, города, долгих 630 километров. Мжно ли считать это место истоком Миасса? В один из дней жаркого лета и оно было пересохшим. Но густая трава — верный признак: там течет вода. Из года в год зеленеет тот лужок и прячется за склон. Стекает ли ручеек с крутобоких камней или восходящим потоком пробивается вверх, не знаем. Но то, что Миасс начинается с западного склона Нуралей, это уже бесспорно. Соль чудесное место не могло остаться без мифа или легенды. И они есть. Сществует даже предание о разбойнике Юсупе, ограбившем почтовую карету. Здесь где-то совсем недалеко проходил, как утверждают башкиры, Екатерининский тракт, связывавший в прошлом Златоуст с Верхнеуральском. Этому преданию о скрытом в Нуралях кладе верят по сей день. Оно все еще живет, все еще звучит из уст жителей соседних деревень. Старожилы предостерегают, что тот, кто проникал в пещеру, обратно не возвращался. «Да, да. Есть такая. Показать? Стар уже стал, не найду», — качает седой головой аксакал. Уивительно, но и сказы твердят о пещере. Именно из ее глубин прорвались высвобожденные волны Миасс-реки—«Матери родниковых вод». А что все-таки значит название Нурали? Что звучит в нем? Нур в переводе и с башкирского и с персидского языка — «свет». Али в тюркском — «возвышенный». С небесной высоты сбегают эти светлые, напоенные солнцем воды! Но как мутнеют они от нашего прикосновения... Продолжение в следующем номере.
Страницу подготовили Ольга и Виктор СУРОДИНЫ.
|
назад |
 Итоки… В нашем бегущем, стремительном мире у всего есть начало и конец. У каждой мысли, каждого поступка, каждой судьбы, что у реки… истоки и устье.
Итоки… В нашем бегущем, стремительном мире у всего есть начало и конец. У каждой мысли, каждого поступка, каждой судьбы, что у реки… истоки и устье.