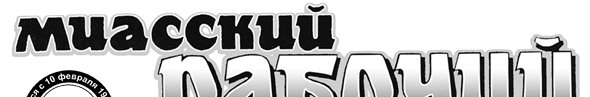 |
свежий номер поиск архив топ 20 редакция www.МИАСС.ru |
|||
| 138 |  |
|||
| Среда, 30 июля 2008 года | ||||
«Моя родословная»
Много ли мы знаем о своих родителях?.. Да, любим их. Да, заботимся. Но редко находим время, чтобы просто побеседовать по душам, расспросить о том, что волнует, поинтересоваться, как и чем они жили раньше, о чем думали, что видели. Для них такое общение — возможность выговориться, для нас же — сама История. 71-летняя Анна Ивановна Алексеева (в девичестве Красавина) не думала и не гадала, что когда-нибудь возьмется за написание книги, а пришлось. Пришлось после того, как сын, пораженный ее подробными, со знанием дела, комментариями к фильму «Хождение по мукам», воскликнул: «Мама, да тебе книгу пора писать!» Изба превращалась в посиделки Втечение почти десяти лет изо дня в день, не торопясь Анна Ивановна, уроженка села Верхний Авзян, описывала все виденные и пережитые ею события, начав с повествования о жизни большой дедовской семьи, состоящей из 19 человек. Пдробно рассказала о каждом родиче, его характере, поведении, о том, чем занимался каждый из них в громадном крестьянском хозяйстве (работы на подворье, выжиг угля, выделка шкур и другое). Даже вечером после длинного трудового дня семья продолжала работать. «По вечерам изба деда превращалась в какие-то посиделки. Размещались кто где мог. Дед садился на маленький обтянутый кожей низенький стульчик около лавки против окна, разложив на лавке свои скорняжные инструменты. Шил хомуты, шлеи, уздечки и ремонтировал их также. Бабушка и другие женщины размещались с гребнями и прялками и, в зависимости от того, какое время года, пряли шерсть на сукна и чулки или же «прядиво», лен, коноплю, посконь на холсты. И пели... Удивительно хорошо пели они старинные русские песни. Спустя много лет я слышала их от своей матери, когда мы с ней пряли или «наряжали» ткать. Сидя за станом пела она эти нескончаемые протяжные песни «Во субботу день ненастный», «Стонет сизый голубочек», «При народе, в хороводе», «Ванька-ключник» и другие...» И притом пронзительно свистела! А вот как описано гостевание взрослых детей, уже построивших свои собственные дома, у родителей: «Я очень любила, когда к деду с бабушкой приходили в гости дочери, сыновья. По большим праздникам наготовит бабушка котлы щей с мясом, картошки с салом, пирожков с осердием и другой снедью и угощает своих гостей. Большой стол в углу под образами, места за ним хватало всем, а когда были гости, то дети вместе за стол не садились, а забирались на полати и смотрели на гостей. Изредка на столе появлялась бутылка водки. Разливали ее гостям по мизерным таким рюмочкам, а гости с того становились такими веселыми! Выходя из-за стола, пускались в пляс под гармошку, на которой играл муж тетки Натальи Аксен. Как же она весело, задорно, прищелкивая пальцами, плясала и притом пронзительно свистела! За всю свою жизнь после я никогда не слыхала такого отчаянного свиста. А свистеть она научилась опять же на работе с лошадьми, от ее свиста лошади оседали на задние ноги». От матери влетало часто Лбопытно современному человеку прочесть о том, как уральские крестьяне воспитывали своих детей: «Отец за шалости нас не наказывал: девчонки должны быть под надзором матери. А сыновей воспитывал сам. Ну от матери нам влетало довольно часто. Она больше всего следила за тем, чтоб мы не сидели без дела. Все дети работали в своем хозяйстве. Убирали сено, огороды, иногда сеяли немного овса и ржи. Если кто вздумывал отвлечься чем-либо в свое удовольствие от заданного матерью дела, то сразу слышалось: «Ах вы, лихорадки этакие, сломить вам шею! Опять бездельничаете?» Мне было четыре года, а мать уже толкает веретено в руки или спицы вязальные — учись!» Стол ломился от снеди Ннька маленьких племянников, пастушка, огородница, пряха — все испробовала Аннушка в неполные свои четыре года. А обиды никакой на родителей в строчках книги не чувствуется: ну не было принято в крестьянских семьях лодырничать, работа находилась для каждого — и для большого, и для маленького. Зато уж праздники отмечали с размахом, готовились к ним загодя. «Родители мои были довольно религиозны, соблюдали все посты, большие и малые. А как они готовились к Рождеству, Пасхе и другим большим праздникам! Удивительное дело, что всегда всего у нас было вдоволь. Хлебы пекли сами: отец покупал муки и белой, и ржаной на год. Мяса завались — кололи свою живность: свиней, овец. Много забивалось и гусей, от которых я, как пастушка, страдала немало. Щипались они очень больно, особенно гусак. Когда хватаешь маленьких гусят в подол и бежишь с ними по двору, чтобы скорее заманить больших гусей, они особенно больно щиплют тебя за голяшки, с вывертом. Таких синяков насадят, что они с меня почти все лето не сходят. …С первого дня праздника с утра в «кабинете» отца (маленькая квадратная комнатка размером 2,5 на 2,5) со стола убирались разные счета, амбарные книги и прочее, стелили белую скатерть. Ставили на стол гуся, запеченного в тесте и украшенного бумажками, водку, пласт капусты, грибков соленых, студень, рыбу и прочее. И ждали, вернее, держали стол накрытым до конца праздника: если Рождество, то три дня, Пасха — неделю. Приходили поздравить отца с праздником нагребщики угля, сторожа — словом, его подчиненные, и, разумеется, не все сразу, а поодиночке, кто как мог. Выпивали за здоровье Ивана Петровича, закусывали и чинно-благородно удалялись, не задерживаясь ни на минуту. Для гостей же стол накрывали в горнице. Стол всегда ломился от разной снеди. Подавалась на стол и водка. Пили, однако, немного. Я никогда не видела, чтобы после такой пирушки грандиозной кто-то б валился с ног. А как пели!.. Особенно по сравнению с нашим временем, когда пьют даже очень много, а песен не слышно, так, какое-то нечленораздельное мяуканье и все». Я хохотала, как дурочка Кк развлекалась молодежь в начале века? И об этом не забыла поведать в своих записях Анна Ивановна. «Взять хотя бы святки! Эти две недели после Рождества были праздником, работы делали только по хозяйству: ну задать корм скоту, почистить, попоить и так далее. Остальное время проводили на улице. Дом наш стоял на довольно высокой и крутой горке как-то в одиночку. Мои старшие братья и сестры выходили кататься с этой горы на широких липовых лубках, надрезанных и сшитых с одного конца, вроде пакета, чтоб он не упирался в снег. Садились на него сколько влезут и мчались вниз! Сколько крика и смеха было на этой горе». А вот что пишет автор о детских играх: «К сумеркам нас отпускали играть на улицу. Во что только не играли! В перворехи, сухую рыбу, лапту, кондалы, горелки, в пчелку, коршуна… В пчелку играли так: самый высокий из играющих встает первым, за ним цепляются за руки меньшего роста, наматываясь вокруг верзилы, стоящего в центре с голиком в высоко поднятой руке. Накрутятся на него и поют: «Пчелка, пчелка, дай медку, а то улей разорю!» «Пчелка» разворачивается и начинает в этой свалке «раздавать медок» голиком. Хорошо тем, кто успеет отбежать подальше, а уж ближним достается медку вдоволь!» Эо воспоминания маленькой девочки. В годы ее учебы в Высшем начальном училище развлечения стали другими… «Ходили в церковь ради развлечений. Не раз я была на колокольне, на самой звоннице, где висели такие громадные колокола, что на них было страшно взглянуть. Было у меня тогда в друзьях два поповича, Борька и Колька. Колька искусно звонил, пожалуй, лучше всякого звонаря. Понадевает на себя петли веревочные от колоколов и на руки, и на ноги, становится на доски, тоже как-то прикрепленные к колоколам, и начинает дергаться, как дергунчик. И пойдет такой перезвон, как музыка!.. Глядя на него, я хохотала, как дурочка: уж очень смешно было его дерганье и приплясывание на досках. Но звон стоял отличнейший!» Ложитесь на пол, пострелята! Мого страниц рукописной книги посвящено гражданской войне: «Хотя мы и мало еще в чем разбирались, но наши симпатии были на стороне красных. Однако ни симпатии, ни антипатии наши не мешали враждующим сторонам забирать у населения то, что им требовалось в данный момент. Однажды поздно вечером мы сидели дома за чаем. Заходят четверо вооруженных, в черных полушубках, с красными лоскутами на шапках, сразу подходят к столу (отец даже не успел подняться со стула), окружили его, стуча прикладами, и говорят: «Нам нужна теплая одежда для перевозки раненых. Давайте все, что у вас имеется!» Ни слова не говоря, отец с бледным лицом собрал тулупы и полушубки, выложил перед ними. Они же, молча подобрав все, не сказав ни слова благодарности, удалились. Мы молча сидели за столом и долго не могли прийти в себя. Днем во двор быстро забежал один солдат с ружьем, вывел из конюшни последнюю кобылу (она должна была вот-вот ожеребиться) и заставил отца запрягать. Тот начал было возражать, дескать, что же ты, не видишь, в каком она положении? Но это не возымело на солдата никакого действия… …Не знаю, сколько раз Верхний Авзян переходил из рук в руки от белых к красным и наоборот. Во время перестрелок, наступлений и отступлений тех и других из окна было видно, как бегут, ложась и падая, солдаты. Мы с братишкой стараемся все увидеть, ничего не пропустить, а мать или отец, надаривая нас подзатыльниками, отгоняют: «Застрелят ведь! Прилетит шальная пуля и конец! Прячьтесь за простенок или ложитесь на пол, пострелята!» Стихнет перестрелка, глядишь, уже спокойно по улицам разъезжают верхами другие. Бывало и так: только стихло, идем гурьбой по ягоды километров за семь-восемь и в лесу слышим, как в заводе опять меняется власть». Послушайте, как надо писать Ону из глав своей книги Анна Ивановна назвала «Голодный 1921-й», и в ней, кстати, мы находим объяснение тому, что пожилая женщина не побоялась взяться за написание родословной. Рассказывая о своих учителях, она среди прочих упоминает и учителя русского языка. «Поп-расстрига, но довольно образованный по тому времени человек. Очень добросовестно старался вдолбить в наши еще зеленые головы теорию и историю словесности. Любил тех, кто хорошо читал стихотворения, писал сочинения и прочее. Однако, потеряв терпение, иногда срывался на какого-нибудь Федьку Салаваткина: втолковывает ему что-то, а тот стоит перед ним как истукан, уперев глаза в потолок, и ни бум-бум. Тогда учитель кричал: «Олухи царя небесного! Дубины стоеросовые!» А глотка-то была луженая, поповская… Но своими познаниями в русском языке я во многом ему обязана. Не раз случалось, что, раздав тетради с сочинениями, мою он оставлял на столе у себя и говорил: «А теперь вот послушайте, как нужно писать!» И читал классу вслух мое сочинение». И воровство, и людоедство Мого доказательств того, что 1921 год действительно был голодным, приводит автор: «Ели желуди, которые собирали весной по снегу, раскапывали руками прошлогоднюю листву, сушили, толкли в ступе на муку и стряпали лепешки. Поешь этих лепешек и насытишься на всю жизнь так, что от запаха будет мутить. Ели картофельную ботву, лебеду, толкли ильмовую кору. Было и воровство, и людоедство. О последнем и вспоминать страшно до сих пор». Срашно вспоминать, страшно писать, но еще страшнее читать сегодня жуткие подробности того, как обезумевшие люди порой не жалели ни своих, ни чужих, чтобы утолить голод. Вспоминания Анны Ивановны, охватывающие огромный период с 1905 по 1986 год, читаются с неослабевающим интересом с первой до последней странички. К сожалению, автору (а сегодня ей бы исполнилось 103 года) не пришлось увидеть своей книги в печатном виде. Зато ее прочтут внуки и правнуки, а значит, и они смогут прикоснуться сердцем к живой истории страны.
Наталья КОРЧАГИНА
|
назад |
 За десять лет Анна Ивановна Красавина написала книгу о своей семье
За десять лет Анна Ивановна Красавина написала книгу о своей семье